- Культура
- 10 декабря 2021, 19:01
Рассказ «Возвращение» Александра Залесского из сборника «Одной цепью»

В издательской программе «Есть смысл» вышел сборник стихов и рассказов российских авторов о современной семье. В него вошли три десятка как молодых, так и именитых авторов. Публикуем один из рассказов — «Возвращение» Александра Залесского с комментарием автора.
Полковник спецотдела МВД Никита Гордеев налил себе чай. Выключил газ. Переключатель кажется таким знакомым. Как когда-то в детстве у него дома. Даже щелчок тот же самый. Совпадение, наверное. Все старые плиты одинаковые. Как в семидесятые ставили, так и остались.
Все утро Гордеева преследовало странное чувство. Как будто именно сегодня он что-то забыл напрочь. Рано лег спать, как положено перед обыском. Проснулся, включил музыку, позавтракал, вышел из лифта, сел в черную машину «рено», которую предоставили на службе, и забыл. Но что? Что он мог забыть?
Коллега Гордеева, оперуполномоченный Юзвяк, сидел на диване и листал книгу. Он как будто не замечал, что с Гордеевым что-то не так. Но это и тревожило. Юзвяк был хитрым, пронырливым типом. Если Гордеев допустит какую-то оплошность, Зяма, как обычно звали Юзвяка на работе, наверняка ею воспользуется.
Гордеев был либеральным следователем. Он всегда оформлял документы правильно. Не грубил. Не начинал обыски в шесть утра. Сегодня они с группой прибыли в полови- не восьмого. В однокомнатной квартире жила пожилая пара. Женщина и мужчина. Они не стали тянуть. Увидели человека в форме — сразу открыли дверь.
Юзвяк и Гордеев приехали на место обыска в штатском, а человеком в форме был оперативник по фамилии Иванов, который ничего не делал, сидел в углу и следил, чтобы старики ничего не трогали. Снаружи вход охранял росгвардеец Полунин. Росгвардеец закрыл своим крупным телом общий коридор. Из двух дверей дальше по коридору уже выглядывали граждане, которые собирались выходить из дома. Возможно, на работу. Начинался понедельник. Граждане смотрели на росгвардейца, запирали дверь и больше выходить не пытались. Значит, не сильно и надо.
Первым делом Гордеев попросил у деда с бабкой (так их про себя называл Гордеев, хотя в постановлении об обыске были указаны имена и отчества) выдать все средства связи. Бабка отдала смартфон сразу же. А дед говорил, что у него вообще телефона нет. Улыбался, смотрел косо, с издевкой. Наверняка врал. Да и пусть. Устраивать личный обыск Гордеев не стал.
Имя, отчество, попробовал вспомнить Гордеев. Что у него в последнее время с памятью стало? И дело, по которому обыск, он тоже не помнил. Просто дело. Не то чтобы это было важно. Все политические дела примерно одинаковые, а судья потом перепишет в приговор обвинительное заключение. Если с делом что-то пойдет не так — начальство скажет заранее, можно и до суда не доводить. Подберут другую статью — и начнут по новой. Это отлично работает: подозреваемый готовится к худшему, а когда дело закрывают, расслабляется, празднует. На радость у него столько времени, сколько решит следователь. Вторая уголовка выведет из равновесия любого, даже самого стойкого.
С Гордеевым, кроме Иванова, Полунина и Юзвяка, прибыли двое понятых — Симонов и Смирновский. Искать их полагалось среди соседей, но кому будет приятно с семи утра сидеть в чужой квартире? Гордеев считал, что привозить своих понятых — хороший тон. Симонов был студентом школы полиции, Смирновский, кажется, поваром, которого собирались посадить за наркотики. А может, наоборот. Они сидели на кухне и курили. Старуха попросила не курить, возмущалась, но дед так добро взял ее руку в свою, пытался успокоить ее. Гордеев был тронут.
Лицо у деда дрожало, улыбка была расплывчатой, неясной. Вызывала тревогу: в присутствии Гордеева редко улыбались, даже когда он не был на службе. Выправка сказывалась. Гордеев обладал интеллигентной, но мощной внешностью. Волосы уложены лаком, борода аккуратно подстрижена. Звучный сильный голос заставлял утихнуть даже самых смелых граждан, которые любили качать права и цитировать статьи законов. Гордееву часто поручали делать доклады. Один раз доверили мегафон на митинге. Граждане, вы мешаете проходу граждан, ваша акция не согласована.
То свое выступление на митинге Гордеев помнил лучше, чем причины сегодняшнего обыска. После разгона он чувствовал неодобрительные взгляды людей на выходе с площади, а потом, в следующие дни, как будто встречал те же взгляды тех же людей в магазинах и на улице, и становилось немного стыдно.
Однушка, где проводилось следственное действие, была заполнена старым хламом. Книги, тряпки, всякие вещи для шитья, горы советской посуды, пригоревшие алюминиевые кастрюльки, три мясорубки, которые Юзвяк долго осматривал. Искать, собственно, было нечего. Изъяли старый ноутбук — ровесник грузинской войны. Хотели забрать телевизор, но Гордеев решил, что не надо.
Обыск в целом подходил к концу. Пять часов — уложились довольно быстро, хотя спешка в таких делах уместной не бывает. Гордеев вышел на кухню поставить чайник. Понятые резались в шашки, найденные на антресолях. Дегенераты, подумал Гордеев и сразу же обругал себя за высокомерие. А затем похвалил себя за то, что обругал. Эти, там, пишут все время, что у ментов рефлексии не бывает. Как же не бывает.
И все равно тревожно. Что-то он забыл. И чайник знакомый. Зачем они держат старый чайник? У него дома давно электрический.
Гордеев налил себе чай. Выключил газ. Переключатель кажется таким знакомым. Что-то черное мелькнуло у него перед глазами. Он споткнулся и осторожно вернулся в комнату. Сказал Юзвяку, чтобы осмотрел оставшиеся ящики. На полу лежали стопки книг и вещей — Гордеев предпочитал не устраивать разгром, это не входило в его обязанности. Юзвяк открыл один из ящиков и стал перебирать женское нижнее белье.
Дед смотрел на оперуполномоченного и улыбаться перестал. Даже весь побагровел. Гордеев испугался, что придется вызывать скорую. И тут дед набросился на Юзвяка и повалил его на пол. Хотел ударить, наверное, но просто шлепнулся на пол вслед за Юзвяком. Ушибся плечом. Юзвяк отряхнулся и испуганно посмотрел на деда.
— Может, на него наручники надеть?
— Не надо. — Гордеев опустился к деду. — Вам воды, может? Сидите спокойно. Так будет проще.
— Ах ты говнюк, — сказал дед и трясущейся рукой схватил Гордеева за край рубашки. — А ну, пошел отсюда!
Гордеев был озадачен.
— Ты че, дед?
— Какой я тебе дед! Совсем ты дубу дал в своей ментовке!
Тут черное захлестнуло Гордеева, он екнул, поднялся и распорядился продолжать обыск жилого помещения. Теперь стоило вскрыть все. Разломать каждый ящик. В любом пазу могла быть спрятана карта памяти MicroSD или чего похуже. Гордеев пришел на кухню и взял цветок. Старый декабрист в горшке, который, наверное, видел декабристов (так мог пошутить один из понятых-дегенератов за кухонным столом). Покрутил в руках горшок и бросил на пол. Потом следующий. И следующий. Дегенераты оставили шашки и с удивлением смотрели на Гордеева. Гордеев смотрел вокруг и думал-вспоминал. Они даже обои не сменили. Те же дырки в штукатурке от жестяных картинок, к которым он прыгал в детстве и срывал!
Гордеев пошел-взял из прихожей большой молоток, которым росгвардеец Полунин готовился выбить дверь, если старики будут артачиться. Взял-пошел в комнату, где сидел дед со своей плачущей бабкой. То есть пока еще не плачущей. Но уж Гордеев позаботится. Оба будут слезами обливаться. Еще спасибо пусть скажут, что только слезами. Бьет-ударяет Гордеев по табуретке. Табуретка в щепки. А потом бьет по верхней части пианино. Стоит пианино с огромной дырой. Стоит неуверенно. Бабка дрожит. Смотрит. А дед как будто смеется. Скотина. Я еще думал скорую ему вызвать!
Гордеев сел-начал играть на пианино. Садиться некуда, пришлось стоять. Поднял крышку — и понеслась мелодия. Ужасная, мерзкая мелодия. И вот он вспоминал, как его заставляли играть. Вот эти двое заставляли. Они выдают себя теперь за деда с бабкой, а тогда были молодыми, жестокими, и их надо было звать мамой и папой. Они ходили с ним в музыкальную школу и записывали в блокнот все, что он должен был делать. А потом заставляли по этим бумажкам заниматься. Когда он возражал — наказывали. Убирали постройки из железных конструкторов, которые Гордеев очень любил, в мешки, и выставляли на лоджию. Детали там гнулись, пачкались.
От своей музыки вспоминал Гордеев и другие наказания. Уронил чайник, отколол эмаль — десять суток без карманных денег. Выдрал гвоздь, на который крепилась жестяная картинка, — тридцать суток. Оторвал кусок обоев — не стоит вспоминать. Порезался ножом от мясорубки — тоже не стоит. А что тогда стоит? Вот мать заботливо заставляет его дышать вареной картошкой из алюминиевой кастрюльки, обернутой марлей. У него насморк, пар обжигает нос, раздражает и без того больное горло. Но ему приятно, что сквозь марлю он не видит ее лица. На их лица лучше не смотреть. Лучше их стереть.
Вспоминал, как дед — то есть отец, конечно, — орал на бабку много ночей подряд, а она потом взяла и ушла, и позвонила потом, когда деда не было, и сказала Гордееву, что дед ей теперь изменяет с какой-то другой бабкой.
Как настали подростковые времена, Гордееву хотелось быть рядом с девочками, а девочки его дразнили за сальные волосы и плохую стрижку. Бабка его хорошо стригла, а дед начал водить в парикмахерскую в подвале на районе. Сам дед там тоже стригся. Хотя ему и стричь было нечего.
Как дед начал спать на раскладушке на кухне, чтобы комнату оставить Гордееву в распоряжение. Не хотел, значит, смущать его.
Потом бабка вернулась. И они снова въехали в его комнату. Все говорили Гордееву, что скоро по очереди квартиру получат в поселке Северном. Уже двадцать лет ждали. Прошла пара месяцев — начали ругаться по-прежнему. Гордеев переехал на раскладушку на кухне.
И вот они тут. Снова!
Гордеева оттаскивали от пианино. Говорили, чтобы прекратил.
Конечно, он их не узнал! Он не хотел их узнавать! Это ничего. Просто надо успокоиться. Съездить в отпуск. Отстрелять пару обойм. Почитать стихи поэтов Серебряного века. Все будет хорошо.
Вот это жизнь проклятая. Пятнадцать лет он делал все, чтобы оказаться от этого дома как можно дальше. Горбатился в колледже. Потом на юридическом. Женился, через год развелся. Фамилию жены потом взял. Больно красивая. Работал в прокуратуре мальчиком на побегушках. Дознавателем. Потом дорос до управления МВД. Центр по борьбе с экстремизмом. Плюс перспектива перейти в ФСБ. А там вообще море по колено. В будущем все должно было быть хорошо. Хорошая, благополучная семья. Машина — получше нынешней. Квартира. А то и не одна. Или одна, но комнат побольше. Чтобы у каждого из детей своя комната. И дети. Не меньше двух.
Гордеев сел рядом с пианино и почесал висок. Почему у него такие толстые, сальные волосы? Непонятно. Чесаться хотелось очень. Застучали шашки. Лишь бы Юзвяк не написал рапорт. А он ведь напишет, падла.
— Распишитесь в протоколе, — говорил Юзвяк деду с бабкой. Скрюченные, неприятные фигуры.
Неужели из-за этих я все потеряю?
Эти теперь молчали, держались за руки и делали все, что им говорили. Когда они уходили, дед тихо спросил Юзвяка:
— Вы оплатите то, что сломали? Вы не нашли ничего.
Значит, не надо было ломать.
— По оперативной работе компенсаций нет, — ответил Юзвяк.
— Хоть пришлите кого-нибудь полки починить. У нас дрель сломалась.
— Сказали тебе: нет компенсаций.
— Да ладно, ебатомать, что ж нам делать-то? — В ЕСПЧ иди, дед, — сказал один из понятых.
Они ушли. Некрасиво вышло, действительно.
***
— Да нет, конечно. — Юзвяк принес чаю. — Не твои это родители. У них вообще детей нет. Кажется.
— И что теперь? Как они там?
— Ну, говорят, отдохнуть тебе надо. В отпуск отправят. Короче, надеются на тебя.
— Ну ладно.
— А жалобе ходу не дадут. Вспылил — с кем не бывает. Потом, у этого деда племянник в иностранном агенте.
— Вот оно что.
— Ну так поэтому и обыск.
— Вот оно что.
— Тебе память надо проверить, Никитос.
— Ну, а какая разница, про что обыск. Мы ничего не ищем все равно, просто изымаем. Гордеев дотронулся до чашки и отхлебнул. Задумался.
Юзвяк уже вышел в коридор, когда Гордеев его окликнул:
— Слушай, Зяма, я вот что подумал. Если это не мои родители, то где мои-то?
Тему семьи я в своих текстах стараюсь избегать. Для меня семья на личном уровне — это боль. И несбывшаяся надежда. Мне в каком-то смысле нравится делать героев — даже отрицательных, это не важно, — бессемейными. Как будто наличие в их жизни близких родственников загрязнит их чистую и живую индивидуальность.
Семья это, конечно, не только кровные родственники, но мы все понимаем разницу: родственники это те, кто с нами всегда, до самого конца. А семья, которую мы сами себе выдумываем, может так же внезапно исчезнуть.
И герой моего рассказа, Гордеев, тоже такой: бессемейный тип, которому никто не мешает. Делать то, что он делает. А делает он политические репрессии.
Вообще в моменты столкновения с судебно-исполнительной системой, когда человек попадает в СИЗО, например, ценность семейных связей повышается: люди женятся, потому что иначе не попасть на свидание, родственники, которые давно исчезли из жизни, могут вернуться, чтобы помочь, потому что некому больше подписать бумаги и передать вещи. В этом моём рассказе про тюрьмы ничего нет, но и обыск тоже репрессивное действие, после которого человек часто остаётся в беспомощном положении (даже если говорить только об имущественной стороне дела — а ведь за обыском всегда следуют допросы, возможное обвинение, суды, арест). На «политических» всегда изымают компьютеры, телефоны, даже игровые приставки, потому что там якобы может находиться ценная для следствия информация. Вернуть технику сложно. Цифровую жизнь приходится начинать заново.
За Гордеевым стоит большая метасемья в лице государства, и ему подобные вещи не страшны. Силовик, чиновник хорошего ранга — это чаще всего мужчина-благодетель, он раздаёт близким подарки, может даже отписать жене оффшоры и фиктивно развестись. Если женщина вздумает поступать по-своему, метасемья всегда будет готова отхлестать метажену по щекам.
Часто говорят, что семьи сейчас стали слишком сложными. Норм не стало, все ведут себя по-своему. Большая часть историй, которые я видел в сборнике, посвящены именно этой сложности, которой противостоит страх одиночества. Думаю, всё всегда было сложным. Спокойствие и благополучие делают объединения людей проще. Бедность, депрессия, усталость, теснота приводят к тому, что семьи из добровольных объединений превращаются в принудительные. Мне хотелось рассказать о тех, кто несёт за это ответственность. Им всё равно — но давайте их хотя бы запомним.
Спасибо, что дочитали до конца! Сборник «Одной цепью» можно купить здесь.
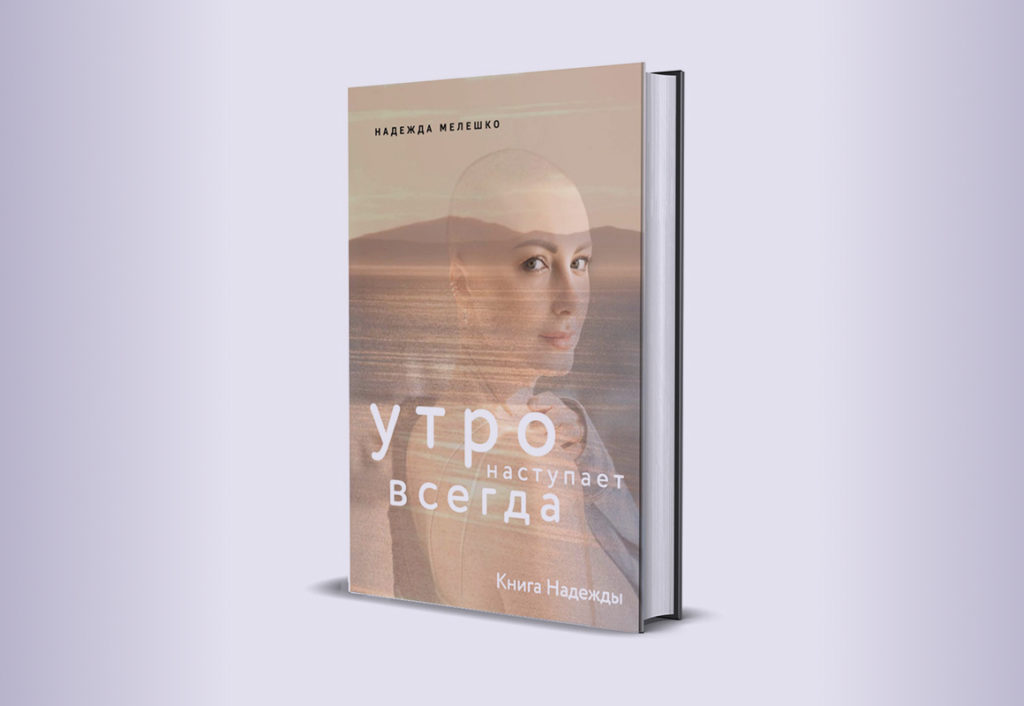 Культура
Культура





